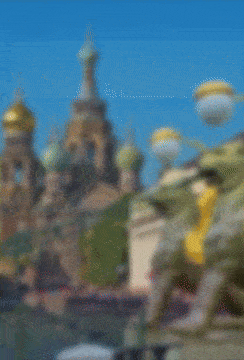|
Имя и судьба Осипа Мандельштама неразрывно связаны с Петербургом. Здесь поэт провел свои детские годы и написал первые стихи, здесь прошла его юность, овеянная знакомством и дружбой с такими знаменитыми собратьями по перу, как Николай Гумилев, Анна Ахматова, Вячеслав Иванов, редактор знаменитого «Аполлона» Сергей Маковский, а также с другими поэтами и художниками Серебряного века.
Мандельштам и вся его судьба являет собой пример противостояния личности и режима, свободы духа и насилия над человеческими ценностями. Его кристальная честность и правдолюбие не позволяли молчать даже в самые страшные для всех советских людей годы – в годы кровавого террора, сталинского режима, во времена репрессий и лагерей, ставших последним пристанищем для множества невинно осужденных.
Казалось, даже сам вождь испугался силы поэтического слова – ведь Мандельштам еще был на свободе, когда многие его соратники и современники уже испытали на себе весь ужас пыточных застенков и ночных визитов. Однако «кремлёвский горец» не простил поэту его безрассудной смелости, он просто играл с ним, словно кот с мышью. Перед ним закрылись все двери, старые знакомые боялись общаться с Осипом и Надеждой.
Только любовь жены помогала Мандельштаму жить и творить в эти нелегкие годы, он так и умер несломленным, не утратившим любви к родному городу, к России, - в пересыльном лагере под Владивостоком.
1. Стихотворение «Адмиралтейство», вошедшее в сборник «Камень», было написано Осипом Мандельштамом в тот период, когда он уже отошел от философии символизма и причислял себя к поэтическому цеху акмеистов. Трагические и мистические символы уступили место более осязаемым вещам, в частности произведениям мировой архитектуры.
Для Мандельштама Адмиралтейство, величие и монументальность которого он смог отразить в нескольких строках – это венец трудов архитекторов, строителей, «преемников Петра», оставивших ощутимый след в истории и в сердцах людей. Поэзия, как и архитектура – это лишь средство выразить себя и оставить память. Поэт строит свой шедевр чудесным сплетением слов, и он, хоть и не осязаем, но все же достоин пребывать в памяти людской.
АДМИРАЛТЕЙСТВО
В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота - не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря -
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!
1913
2. Стихотворение «Петербургские строфы» навеяно, несомненно, образом любимого города, величественного и родного, города Пушкина и Достоевского, города великих свершений и несчастий «маленького человека». Здесь и пушкинский Евгений, и желтая «блоковская муть», и неясные предчувствия, и воспоминания о событиях на Сенатской площади. В одном необычайно емком стихотворении чувствуется связь разных эпох, словно наложенных одна на другую, сочетание «моторов» и «оперных мужиков» торгующих сбитнем, власти и бедности, величия и нищеты. Этот город – живой и многоликий, неповторимый и прекрасный во всех своих ипостасях.
ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ
Н. Гумилеву
Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке,-
Россия отдыхает тяжело.
А над Невой - посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба -
Онегина старинная тоска;
На площади Сената - вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход -
Чудак Евгений - бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
1913
3. Предчувствие надвигающейся бури сложилось у поэта в картину гибели империи, ожидание хаоса выражено в превращении державного величественного Петербурга в тонущий Петрополь. Рушится старая жизнь, а с ней и город Петра уходит под воду, как легендарная Атлантида.
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем,-
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
1916
4.
Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.
1916
5. И вновь мотив умирающего города звучит в строках Мандельштама, но в глубине души еще тлеет надежда, что эта смерть станет рождением чего-то нового, неизведанного и прекрасного. Недаром поэт с восторгом принял поначалу Октябрьскую революцию, ведь еще гимназистом он участвовал в митингах и тайных собраниях будущих революционеров.
На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,-
Твой брат, Петрополь, умирает!
На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда,- воды и неба брат,-
Твой брат, Петрополь, умирает!
Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда,- в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.
Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда,- Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!
Март 1918
6. Это стихотворение, написанное в 1920 году, насквозь пронизано воспоминаниями. Сквозь скупые тени нынешнего Петербурга, мрачного, ночного, советского, проступают былые картины ярких театральных премьер, пышных балов, картины иной, безвозвратно ушедшей жизни, вместе с которой минула и юность…
В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.
Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.
Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» -
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.
Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож,
Заводная кукла офицера -
Не для черных душ и низменных святош...
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты.
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.
1920
7. И вот нет больше императорского Петербурга, нынче это – город обывателей, мелких желаний и событий, город с шоколадными невысокими домами, какой-то до боли провинциальный, но все же безмерно любимый.
Вы, с квадратными окошками, невысокие дома,—
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!
И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.
А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар.
Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.
И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой,
Электрическою мельницей смолот мокко золотой.
Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,—
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!
И приемные с роялями, где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых «Нив».
После бани, после оперы,— все равно, куда ни шло,—
Бестолковое, последнее трамвайное тепло!
8. Это стихотворение опальный поэт написал, когда в поисках жилья и пропитания он бродил по родному городу, когда бывшие друзья боялись пустить его в дом, опасаясь репрессий. Тогда же он обратился к своему брату Евгению и провел несколько дней в его квартире на Васильевском острове.
ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург! я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Декабрь 1930
9.
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобью.
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглеет,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя, под сурдинку:
«Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...»
Январь-февраль 1931
|
![]() Карта
Карта![]() Маршруты
Маршруты![]() Где остановиться
Где остановиться![]() Где поесть
Где поесть![]() Что купить
Что купить![]() Как добраться
Как добраться![]() Погода
Погода